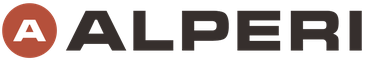07.06.2024
А. Толстой
В его судьбе не просматриваются «страсти», столкновения, драматические коллизии. И исследователи не ломают копий по его поводу. Разве что один напишет: «Талантливый сатирик», другой: «Несравненно интереснее Толстой как поэт и драматург», а третий вдруг: «Человек благородной и чистой души».
Алексей Константинович немного меркнет в ауре своих блистательных однофамильцев-писателей, дальних родственников - Льва Николаевича и Алексея Николаевича. В нем вообще мало блеска, скорее неяркий, но ровный свет. Всегда - «рядом» с великими. Ребенком он сидел на коленях у самого Гёте, в его детский альбом рисовал сам Брюллов, ранние поэтические опыты одобрил сам Жуковский, а по слухам - даже Пушкин. Был другом детства будущего императора Александра II. Членом-корреспондентом Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности был избран в один день со Львом Николаевичем… И так всю жизнь.
Его можно считать «фоном» русской литературы. Однако след, оставленный им, отчетлив. Начиная со строк, авторство которых с трудом вспомнит читатель: «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Земля наша большая, порядка только нет» и даже «Если у тебя есть фонтан - заткни его…». А заканчивая самим духом русской поэзии. Потому что русская поэзия - не только Пушкин и Блок, а еще и такие имена, как Алексей Константинович Толстой, негромкие, но таящие тонкость и очарование, глубину, благородство и силу. Благословенна культура, у которой такой «фон».
От царедворца к свободному художнику
Высок, красив, необычайно силен (руками мог кочергу узлом завязать), приветлив, обходителен, остроумен, наделен великолепной памятью… Этот русский барин был желанным гостем всех аристократических салонов и гостиных. Происходил он из старинного знатного рода - дедом его по матери был знаменитый Алексей Разумовский, сенатор при Екатерине II и министр народного просвещения при Александре I. Дядей с той же материнской стороны - автор «Черной курицы» Антоний Погорельский. Дядей по отцу - известный Толстой-медальер.
Так случилось, что в восьмилетнем возрасте Алеша Толстой оказался товарищем детских игр цесаревича Александра. И в 1855 году, едва вступив на престол, император Александр II призвал его к себе, произвел в подполковники и назначил своим флигель-адъютантом. Алексей Константинович верой и правдой служил государю, но «служебное положение» использовал и для того, чтобы помогать попавшим в беду литераторам: вернул в Петербург Тараса Шевченко, забритого в солдаты, вступился за Ивана Аксакова, вызволил из-под суда И. С. Тургенева… Но вот попытка заступиться за Н. Г. Чернышевского окончилась неудачно: Алексей Константинович вынужден был подать в отставку. Зато теперь у него появилось свободное время для литературного творчества.
Впрочем, именно искусство он считал своим подлинным предназначением. По отзывам современников, Толстой был человеком благородной и чистой души, начисто лишенным каких бы то ни было тщеславных устремлений. Устами одного из своих литературных персонажей - Иоанна Дамаскина - он прямо говорил об этом: «Простым рожден я быть певцом, глаголом вольным Бога славить...»
Писать Толстой начал уже в раннем возрасте. Первый свой рассказ «Упырь», написанный в фантастическом жанре, он выпустил в 1841 году под псевдонимом Краснорогский. Впрочем, позднее не придавал ему большого значения и даже не хотел включать в собрание своих сочинений.
После длительного перерыва, в 1854 году, в журнале «Современник» появились его стихотворения и сразу обратили на себя внимание публики. А затем родился знаменитый Козьма Прутков - под этим псевдонимом скрывались несколько человек, в том числе двоюродные братья писателя Алексей и Владимир Жемчужниковы, однако перу Толстого принадлежит немалое количество стихотворений. Юмор Алексея Константиновича неповторим: тонкий, но не злобный, даже добродушный. От имени тупого и самовлюбленного бюрократа в стихах, баснях, эпиграммах, драматических миниатюрах высмеиваются самые неприглядные явления русской жизни того времени. О проделках Толстого и Жемчужниковых весело говорил весь петербургский и московский свет, но и Николай I, и потом Александр II были недовольны. В ироническом стиле написаны и другие его произведения - «Очерк русской истории от Гостомысла до Тимашева» и «Сон Попова». «Очерк...» любопытен и с литературной, и с исторической точки зрения: в нем с большим юмором описываются многие события российской жизни и некоторые исторические личности.
Потом в журнале «Русский вестник» М. Н. Каткова были опубликованы драматическая поэма «Дон Жуан» и исторический роман «Князь Серебряный», стихотворения, написанные в архаическо-сатирическом жанре. Затем Толстой начал писать первую часть драматической трилогии - «Смерть Иоанна Грозного». Она с необычайным успехом шла на театральной сцене и кроме многочисленных чисто литературных достоинств ценна еще и тем, что в свое время явилась первой попыткой вывести реальный образ царя - царя-человека, живую личность, а не возвышенный портрет одного из великих мира сего.
Позже Алексей Константинович активно сотрудничал с «Вестником Европы» М. М. Стасюлевича. Здесь напечатал стихотворения, былины, автобиографическую повесть, а также две заключительные части драматической трилогии - «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Их отличают глубокий психологизм главных героев, строгая последовательность изложения материала, прекрасный стиль… Впрочем, эти достоинства присущи большинству литературных творений Толстого, ставших образцами мировой классической литературы.
Над схваткой
Единодушная в других случаях литературная критика очень противоречиво оценивает литературную позицию Алексея Толстого. Одни авторы пишут, что он был типичным западником, другие настаивают на его славянофильских пристрастиях. Но он ни к какому лагерю принадлежать не хотел.
С 1857 года стали прохладнее отношения между Толстым и редакцией «Современника». «Признаюсь, что не буду доволен, если ты познакомишься с Некрасовым. Наши пути разные», - писал он тогда жене. Разногласия с демократами и либералами сблизили Толстого со славянофилами - поборниками российской старины и самобытности. Алексей Константинович сдружился с И. С. Аксаковым и стал постоянным автором «Русской беседы». Но уже через несколько лет и здесь обнаружились существенные расхождения. Толстой не раз высмеивал претензии славянофилов на представительство подлинных интересов русского народа. С начала 1860-х он подчеркнуто отстранялся от политической жизни и - несмотря на их враждебное отношение друг к другу - печатался и в «Русском вестнике» и в «Вестнике Европы».
Он держался собственных взглядов на исторические пути России в прошлом, настоящем и будущем. И его патриотизм - а он безусловно был патриотом - имел особую окраску.
«Истинный патриотизм, - писал позже о Толстом Владимир Соловьев, - заставляет желать своему народу не только наибольшего могущества, но - главное - наибольшего достоинства, наибольшего приближения к правде и совершенству, т. е. к подлинному, безусловному благу… Прямая противоположность такому идеалу - насильственное, нивелирующее единство, подавляющее всякую частную особенность и самостоятельность».
Поэтому к революционерам и социалистам А. К. Толстой относился отрицательно, но с революционной мыслью боролся отнюдь не с официозных монархических позиций. Он всячески высмеивал бюрократию, консерваторов, негодовал на деятельность III (жандармского) Отделения и цензурный произвол, во время польского восстания вел борьбу с влиянием Муравьева Вешателя, решительно возражал против зоологического национализма и русификаторской политики самодержавия.
Следуя своему чувству правды, Толстой не мог отдаться всецело одному из враждующих станов, не мог быть партийным борцом - он сознательно отвергал такую борьбу:
Средь шумного бала…
В тот незабываемый вечер навсегда перевернулась его жизнь… Зимой 1851 года на маскараде в Большом театре граф встретил незнакомку под маской, даму с прекрасной фигурой, глубоким красивым голосом и пышными волосами… В тот же вечер, так и не узнав ее имени, он написал одно из самых знаменитых своих стихотворений «Средь шумного бала…». С тех пор вся любовная лирика А. К. Толстого посвящена только Софье Андреевне Миллер (урожденной Бахметевой), женщине незаурядной, умной, волевой, прекрасно образованной (она знала 14 языков), но непростой судьбы.
Он страстно влюбился, любовь его не осталась без ответа, но соединиться они не могли - она была замужем, пусть и неудачно. Спустя 13 лет они смогли наконец-то пожениться, и брак их оказался счастливым. Толстой всегда скучал без Софьи Андреевны, даже в коротких разлуках. «Бедное дитя, - писал он ей, - с тех пор, как ты брошена в жизнь, ты знала только бури и грозы… Мне тяжело даже слушать музыку без тебя. Я будто через нее сближаюсь с тобой!» Он постоянно молился за жену и благодарил Бога за дарованное счастье: «Если бы у меня был Бог знает какой успех литературный, если бы мне где-нибудь на площади поставили статую, все это не стоило бы четверти часа - быть с тобой, и держать твою руку, и видеть твое милое, доброе лицо!»
В эти годы родились на свет две трети его лирических стихотворений, которые печатались почти во всех тогдашних российских журналах. Однако его любовные стихотворения отмечены глубокой грустью. Откуда она в строках, созданных счастливым влюбленным? В его стихотворениях на эту тему, как отмечал Владимир Соловьев, выражена только идеальная сторона любви: «Любовь есть сосредоточенное выражение… всемирной связи и высшего смысла бытия; чтобы быть верною этому своему значению, она должна быть единою, вечною и неразрывною»:
Но условия земного существования далеко не соответствуют этому высшему понятию любви; поэт не в силах примирить этого противоречия, но и не хочет ради него отказаться от своего идеализма, в котором - высшая правда.
Эта же ностальгия отразилась и в драматической поэме «Дон Жуан», заглавный герой которой - не коварный обольститель, а юноша, который в каждой женщине ищет идеал, «к какой-то цели все неясной и высокой Стремится он неопытной душой». Но, увы, не находит на земле этого идеала. Однако, овладев сердцем поэта, любовь открылась ему как сущность всего существующего.
| Меня, во мраке и в пыли
Досель влачившего оковы, Любови крылья вознесли В отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, И стал мне виден мир незримый, И слышит ухо с этих пор Что для других неуловимо. И с горней выси я сошел, Проникнут весь ее лучами, И на волнующийся дол Взираю новыми очами. И слышу я, как разговор Везде немолчный раздается, Как сердце каменное гор С любовью в темных недрах бьется, С любовью в тверди голубой Клубятся медленные тучи, И под древесною корой, Весною свежей и пахучей, С любовью в листья сок живой Струей подъемлется певучей. И вещим сердцем понял я, Что все рожденное от Слова, Лучи любви кругом лия, К нему вернуться жаждет снова. И жизни каждая струя, Любви покорная закону, Стремится силой бытия Неудержимо к Божью лону; И всюду звук, и всюду свет, И всем мирам одно начало, И ничего в природе нет, Что бы любовью не дышало. |
Против течения
А. К. Толстой, которого принято считать преимущественно лириком или историческим писателем, в крайнем случае сатириком, был, по определению Соловьева, поэтом мысли воинствующей - поэтом-борцом: «Наш поэт боролся оружием свободного слова за право красоты, которая есть ощутительная форма истины, и за жизненные права человеческой личности»:
Этот мягкий, тонкий человек со всей силой своего таланта прославлял, в прозе и стихах, свой идеал. Не ограничиваясь спокойным отображением того, что являлось из «страны лучей», его творчество определялось еще движениями воли и сердца, реакцией на враждебные явления. А враждебным он считал то, что отрицало или оскорбляло высший смысл жизни, отражение которого есть красота. Красота была для него дорога и священна как сияние вечной истины и любви, как отблеск Высшей и Вечной Красоты. И он смело шел за нее против течения:
Мы неслучайно так обильно цитируем Владимира Соловьева, нашего первого - и великого - философа. Он не был лично знаком с Алексеем Константиновичем, но очень ценил его и его творчество за многие достоинства. Прежде всего они сходились в своем пристрастии к идеалистической философии Платона. Толстой полагал, что истинный источник поэзии, как и всякого творчества, - не во внешних явлениях и не в субъективном уме художника, а в мире вечных идей, или первообразов:
Какую же роль играет сам художник? - Он ничего не выдумывает, да и не может выдумать, создать в том смысле, в каком это понимаем мы сегодня. Он связующее звено, посредник между миром вечных идей, или первообразов, и миром вещественных явлений. «Художественное творчество, в котором упраздняется противоречие между идеальным и чувственным, между духом и вещью, есть земное подобие творчества божественного, в котором снимаются всякие противоположности» (В. Соловьев)…
| Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку… О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем, Будь одинок и слеп как Гомер и глух, как Бетховен, Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье, И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, Выйдут из мрака все ярче цвета, осязательней формы, Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье… Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье, И созидая потом, мимолетное помни виденье! |
Алексей Константинович Толстой умер в 1875 году. Ему было 58, дела его были расстроены, здоровье подорвано, но не это было главным… Подводя итоги жизни, он вновь и вновь задавался вопросом: а выполнено ли предназначение, оставлен ли след?
Как бы ни относились мы к творчеству Алексея Константиновича, на этот вопрос нельзя не ответить удовлетворительно. Владимир Соловьев так отметил его значение: «Как поэт, Толстой показал, что можно служить чистому искусству, не отделяя его от нравственного смысла жизни, - что это искусство должно быть чисто от всего низменного и ложного, но никак не от идейного содержания и жизненного значения. Как мыслитель, он дал в поэтической форме замечательно ясные и стройные выражения старому, но вечно истинному платоническо-христианскому миросозерцанию. Как патриот, он горячо стоял за то именно, что всего более нужно для нашей родины, и при этом - что еще важнее - он сам представлял собою то, за что стоял: живую силу свободной личности».
Сатира А. К. Толстого, написанная в конце шестидесятых годов прошлого века, может быть прокомментирована несколькими способами. Прежде всего здесь следует указать на те возможности смыслового истолкования, которые таятся во внетекстовых сопоставлениях. Так, например, возможны соотнесения анализируемого текста с внетекстовой политической реальностью эпохи А. К. Толстого, а также соотнесения его с другими текстами:
1. Нехудожественными - здесь возможны различные аспекты исследования:
а. Сопоставления с историко-философскими идеями, распространенными, начиная с Белинского и Герцена, в русской публицистике, философии и исторической науке 1840–1860-х гг. Имеются в виду представления, согласно которым крепостное право и самодержавная бюрократия являют в русской государственной жизни «восточное» начало, начало неподвижности, противоположное идее прогресса. Можно было бы привлечь цитаты из Белинского и других публицистов о Китае, как стране, в которой стояние на месте заменило и историю, и общественную жизнь, стране, противоположной историческому динамизму Европы.
б. Сопоставления с исторической концепцией самого А. К. Толстого, сближавшего Киевскую Русь с рыцарской романской Европой, а в последующей русской истории усматривавшего черты «азиатчины» и «китаизма», нанесенные владычеством монголов.
в. Сближение А. К. Толстого со славянофильской мыслью в разных ее проявлениях и отталкивания от нее.
г. Многие аспекты историко-философской концепции А. К. Толстого удивительно близки к мыслям А. В. Сухово-Кобылина. Сопоставление текстов дало бы здесь ощутимые результаты.
д. Установление исторических корней концепций А. К. Толстого (здесь, в первую очередь, напрашивается тема «H. M. Карамзин и А. К. Толстой») и их последующей судьбы (А. К. Толстой и Вл. Соловьев, сатирическая традиция поэзии XX в. и др.).
2. Художественными:
а. Сопоставление текста с другими сатирическими произведениями А. К. Толстого.
б. Сопоставление с несатирическими произведениями А. К. Толстого, написанными приблизительно в то же время («Змей Тугарин», «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три побоища» и др.).
в. Сопоставление текста с сатирической и исторической поэзией 1860-х гг. Все эти методы анализа можно назвать контекстными: произведение включается в различные контексты, сопоставления, противопоставления; построения инвариантных схем позволяют раскрыть специфику структуры данного текста.
Однако мы ставим перед собой значительно более узкую задачу, ограничиваясь анализом внутритекстовых связей. Мы будем рассматривать только те структурные отношения, которые могут быть выявлены анализом данного текста. Однако и эта задача еще очень широка. Сужая ее, мы ограничимся суперлексическими уровнями: теми поэтическими сверхзначениями, которые возникают в данном тексте на тех уровнях, для которых слово будет выступать в качестве элементарной единицы.
Сформулированная таким образом задача может быть иначе определена как анализ лексико-стилистического механизма сатиры. При этом следует подчеркнуть, что сатира создается здесь внутренней структурой данного текста и не определена, например, жанром, как это бывает в басне1.
Семантическая структура анализируемого текста построена на несоответствиях. Именно смысловые несоответствия становятся главным носителем значений, основным принципом художественно-смысловой конструкции. В интересующем нас стихотворении мы сталкиваемся с несколькими стилистическими и смысловыми конструкциями, совмещение которых в пределах одного произведения оказывается для читателя неожиданным.
Первый пласт значений может быть условно назван «китайским». Он сознательно ориентирован на «Китай» не как на некоторую географическую и историческую реальность, а имеет в виду комплекс определенных, подчеркнуто тривиальных представлений, являющихся сигналами средних литературных представлений о Китае, распространенных в эпоху А. К. Толстого. Однако, несмотря на всю условность характеристик, адрес читателю дан вполне определенный. Приведем список слов, которые могут быть связаны в тексте только с темой Китая:
балдахин
китаец (китайцы)
Китай
мандарин (мандарины)
чай
Если прибавить два описания «обычаев»: «все присели» и «задами потрясли» и имя собственное Цу-Кин-Цын, то список «китаизмов» окажется исчерпанным. На 95 слов стихотворения их приходится 8. Причем, как это очевидно из списка, все они принадлежат одновременно и к наиболее тривиальным, и к наиболее отмеченным признакам того условно-литературного мира, который А. К. Толстой стремится вызвать в сознании читателей. Интересные наблюдения можно сделать и над распределением этих слов в тексте.
№ строфы количество лексических
«китаизмов»
1
2
3
4
5
6
7 5
1
1
-
1
1
-
Приведенные данные с очевидностью убеждают, что «китайская» лексика призвана лишь дать тексту некоторый семантический ключ. В дальнейшем она сходит на нет. Все «китаизмы» представлены именами. Специфические «экзотизмы» поступков образуются на уровне фразеологии. Это сочетание «все присели, задами потрясли», рассчитанное на внесение в текст элемента кукольности2. Комическая условность клятвы «разным чаем» обнажается введением в формулу присяги указания на сортность, принятую в русской торговле тех лет.
Другой основной семантический пласт текста - ведущий к образам, идейным и культурным представлениям Древней Руси. «Древнеруссизмы» даны демонстративно, и их стилистическая активность рассчитана на чувство несовместимости этих пластов. «Древнеруссизмы» также распределены неравномерно: сгущены они во второй, третьей и четвертой строфах. При этом они также даны в наиболее прозрачных и тривиальных проявлениях. Это особенно заметно на фоне общей структуры «древнеруссизмов» в поэзии А. К. Толстого. В его исторических балладах встречаются такие задающие стилю окраску именно своей редкостью слова, как «дони», «дуб» (в значении «ладья»), «гуменцы» («Боривой»); «кут», «дром», «коты из аксамита», «бeрца», «обор», «крыжатый меч» («Сватовство») и др. При этом эффект их построен на том, что, будучи явно читателю неизвестными, они употреблены как общепонятные, без каких-либо пояснений или толкующих контекстов. Это вводит читателя в незнакомый ему мир и одновременно представляет этот мир как для себя обыденный. Но и в современной политической сатире (например, «Порой веселой мая… ») А. К. Толстой, используя архаизмы, нарочито выбирает наименее тривиальные.
В «Сидит под балдахином…» архаизмы сводятся к самым общеупотребительным в стилизованной поэзии славянизмам. Их всего три: «молвить», «гласить», «младой». К ним примыкает грамматический славянизм «в земли», архаизм «владыко» и просторечия, функционально выполняющие роль «русизмов»: «досель», «склад», «подумаешь». Основная «древнерусская» окраска придается выражением «досель порядка нет», которое представляет собой цитацию весьма известного отрывка из «Повести временных лет». В 1868 г. А. К. Толстой превратил его в рефрен «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Эпиграфом к тому же стихотворению он поставил: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет (Нестор. Летопись, стр. 8)».
Из сказанного можно сделать вывод, что ни «китаизмы», ни «руссизмы» сами по себе не выходят за пределы нарочитой тривиальности и, взятые в отдельности, не могут обладать значительной художественной активностью. Значимо их сочетание. Невозможность соединения этих семантических пластов в каком-либо предшествующем тексту структурном ожидании делает такое сочетание особенно насыщенным в смысловом отношении. Центром этого соединения несоединимого является собственное имя Цу-Кин-Цын, в котором скрещение пластов приобретает каламбурный характер.
Однако какую же идейно-художественную функцию выполняет это смешение стилистико-семантических пластов?
Для того чтобы текст воспринимался нами как «правильный» (например, был «правильным текстом на русском языке»), он должен удовлетворять некоторым нормам языкового употребления. Однако правильная в языковом отношении фраза типа «солнце восходит с запада» осознается как «неправильная» по содержанию, поскольку противоречит каждодневному опыту. Одной из форм осмысленности, позволяющей воспринимать текст как «правильный», является его логичность, соединение понятий в соответствии с нормами логики, житейского опыта, здравого смысла. Однако возможно такое построение текста, при котором поэт соединяет не наиболее, а наименее вероятные последовательности слов или групп слов. Вот примеры из того же А. К. Толстого:
а. Текст строится по законам бессмыслицы. Несмотря на соблюдение норм грамматико-синтаксического построения, семантически текст выглядит как неотмеченный: каждое слово представляет самостоятельный сегмент, на основании которого почти невозможно предсказать следующий. Наибольшей предсказуемостью здесь обладают рифмы. Не случайно текст приближается в шуточной имитации буриме - любительских стихотворений на заданные рифмы, в которых смысловые связи уступают место рифмованным созвучиям:
Угораздило кофейник
С вилкой в роще погулять.
Набрели на муравейник;
Вилка ну его пырять!
б. Текст делится на сегменты, равные синтагмам. Каждая из них внутри себя отмечена в логико-семантическом отношении, однако, соединение этих сегментов между собой демонстративно игнорирует правила логики:
Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Делярю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».
Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал.
А Делярю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Нарушение какой-либо связи представляет один из испытанных приемов ее моделирования. Напомним, что огромный шаг в теоретическом изучении языка сыграл анализ явлений афазии, а также давно отмеченный факт большой роли «перевертышей» и поэзии нонсенса в формировании логико-познавательных навыков у детей3.
Именно возможность нарушения тех или иных связей в привычной картине мира, создаваемой здравым смыслом и каждодневным опытом, делает эти связи носителями информации. Алогизмы в детской поэзии, фантастика в сказочных сюжетах, вопреки опасениям, высказывавшимся еще в 1920-е гг. рапповской критикой и вульгаризаторской педагогикой, совсем не дезориентируют ребенка (и вообще читателя), который не приравнивает текст к жизни. «Как бывает», он знает без сказки и не в ней ищет прямых описаний реальности. Высокая информативность, способность многое сообщить заключается в сказочном или алогическом текстах именно потому, что они неожиданны: каждый элемент в последовательной цепочке, составляющей текст, не до конца предсказывает последующий. Однако сама эта неожиданность покоится на основе уже сложившейся картины мира с «правильными» семантическими связями. Когда герой пьесы Островского «Бедность не порок» затягивает шуточную песню «Летал медведь по поднебесью…», слушатели не воспринимают текст как информацию о местопребывании зверя (опасения тех, кто боится, что фантастика дезориентирует читателя, даже детского, совершенно напрасны). Текст воспринимается как смешной, а основа смеха - именно в расхождении привычной «правильной» картины мира и его описания в песне. Таким образом, алогический или фантастический текст не расшатывает, не уничтожает некоторую исходную картину связей, а наслаивается на нее и своеобразно укрепляет, поскольку семантический эффект образуется именно различием, то есть отношением этих двух моделей мира. Но возможность нарушения делает и необращенную, «правильную» связь не автоматически данной, а одной из двух возможных и, следовательно, носителем информации. Когда в народной песне появляется текст: «Зашиб комарище плечище», то соединение лексемы, обозначающей мелкое насекомое, с суффиксом, несущим семантику огромности, обнажает признак малого размера в обычном употреблении. Вне этой антитезы признак малых размеров комара дан автоматически и не ощущается.
В интересующем нас стихотворении нарушенным звеном является логичность связей. То, что привычные соотношения предметов и понятий - одновременно и логичные соотношения, обнажается для нас только тогда, когда поэт вводит нас в мир, в котором обязательные и автоматически действующие в сфере логики связи оказываются отмененными. В мире, создаваемом А. К. Толстым, между причиной и следствием пролегает абсурд. Действия персонажей лишены смысла, бессмысленны их обычаи:
Китайцы все присели,
Задами потрясли…
Лишены реального значения их клятвы и обязательства, на которые «владыко края», видимо, собирается опираться, и т. д.
Алогизм этого мира подчеркивается тем, что нелепое с точки зрения логики утверждение подается и воспринимается как доказательство: оно облечено в квазилогическую форму. Причина того, что «доселе порядка нет в земли», формулируется так:
… мы ведь очень млады,
Нам тысяч пять лишь лет…
Соединение понятий молодости и пяти тысяч лет читателем воспринимается как нелепое. Но для Цу-Кин-Цына это не только истина, но и логическое доказательство:
Я убеждаюсь силой
Столь явственных причин.
Таким образом, читателю предлагают предположить, что существует особая «цу-кин-цыновская» логика, нелепость которой видна именно на фоне обычных представлений о связи причин и следствий. Характер этой «логики» раскрывается в последней строфе:
Подумаешь: пять тысяч,
Пять тысяч только лет!»
И приказал он высечь
Немедля весь совет.
Стихи «Я убеждаюсь силой…» и «И приказал он высечь…» даны как параллельные. Только в них дан ритмический рисунок, резко ощущаемый на фоне ритмических фигур других стихов. Сочетание смыслов и интонаций этих двух стихов создает ту структуру абсурдных соединений, на которых строится текст.
В общей картине абсурдных соединений и смещений особое место занимают несоответствия между грамматическим выражением и содержанием. В стихе «И приказал он высечь… » начальное «и», соединяющее два отрывка с доминирующими значениями «выслушал - повелел», должно иметь не только присоединительный, но и причинно-следственный характер. Оно здесь имитирует ту сочинительную связь в летописных текстах, которая при переводе на современный язык передается подчинительными конструкциями причины, следствия или цели. Можно с уверенностью сказать, что в созданной схеме: «Правитель обращается к совету высших чиновников за помощью - совет дает рекомендации - правитель соглашается - правитель приказывает…» - продолжение «высечь совет» будет наименее предсказуемо на основании предшествующей текстовой последовательности. Оно сразу же заставляет нас предположить, что здесь речь идет о каком-то совсем другом мире - мире, в котором наши представления о том, что правительственные распоряжения должны отличаться мудростью и значимостью, а государственный совет - сознанием собственного достоинства, - так же не действуют, как не действуют в нем правила логики и нормы здравого смысла.
В этом мире есть еще одна особенность - время в нем стоит (следовательно, нет исторического опыта). Это выражается и в том, что большие для обычного сознания числительные («пять тысяч лет») употребляются как малые («подумаешь»!). Но интересно и другое: в стихотворении употреблены три грамматических времени: настоящее («сидит», «клянемся»), прошедшее («присели», «ответил» и др.) и будущее («совершим»). Однако все они в плане содержания обозначают одновременное состояние. Фактически действие происходит вне времени.
Следует отметить, что если на лексико-семантическом уровне текст делился на два несоединимых пласта, то в отношении к логике и здравому смыслу они выступают едино. Контраст оказывается мнимым, он снят на более высоком уровне.
Так лексико-семантический и стилистический типы построения текста создают сатиру - художественную модель бюрократической бессмыслицы и того «китаизма», черты которого А. К. Толстой видел в русском самодержавии.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Отсутствие сатирического момента в басне («Сокол и голубка» В. А. Жуковского) воспринимается как некоторая неполнота, нарушение ожидания, которое само может быть источником значений. Сообщение же о наличии в басне сатирического элемента вряд ли кого-либо поразит - оно содержится в самом определении жанра. Между тем анализируемое нами произведение А. К. Толстого, взятое с чисто жанровой точки зрения (неозаглавленное стихотворение песенного типа, катрены трехстопного ямба), абсолютно в этом отношении нейтрально: оно с равной степенью вероятности может быть или не быть сатирой.
2О семантике «кукольности» в сатире второй половины XIX в. см.: Гиппиус В. В. Люди и куклы в сатире Салтыкова // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
3 См.: Чуковский К. И. От двух до пяти // Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 1. О структуре текста в поэзии нонсенса см.: Цивьян Т. В., Сегал Д. М. К структуре английской поэзии нонсенса (на материале лимериков Э. Лира) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965. Вып. 181. (Труды по знаковым системам. Т. 2).
Баллады Толстого являются значительным фактом в истории русской поэзии XIX века.
Его первые опыты, относящиеся к этому жанру ("Волки" и др.) - "ужасные" романтические баллады в духе Жуковского и аналогичных западных образцов. К числу ранних баллад относятся также "Князь Ростислав" и "Курган", проникнутые романтической тоской по далекому, легендарному прошлому родной страны. В 40-х годах вполне складывается у Толстого жанр исторической баллады. В дальнейшем историческая стала одним из основных жанров его поэтического творчества.
Обращения Толстого к истории в подавляющем большинстве случаев вызваны желанием найти в прошлом подтверждение и обоснование своим идейным устремлениям. (Данный материал поможет грамотно написать и по теме Биография Толстой А. К. часть 3. Краткое содержание не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений.
) Этими объясняется неоднократное возвращение поэта, с одной стороны, к концу XVI - началу XVII века, с другой - к Киевской Руси и Новгороду.
Подобное отношение к истории мы встречаем у многих русских писателей XVIII - начала XIX века, причем у писателей различных общественно-литературных направлений. Оно служило у них, естественно, разным политическим целям. Оно характерно, в частности, и для дум Рылеева, в которых исторический материал использован для пропаганды в духе декабризма. И, несмотря на коренные различия в их политических и эстетических взглядах, Толстой мог в какой-то мере опираться на поэтический опыт Рылеева.
Баллады и былины Толстого - произведения, близкие по своим жанровым признакам, и сам поэт не проводил между ними никакой грани. Весьма показателен тот факт, что ряд сатир с вполне точным адресом ("Поток-богатырь" и др.) облечен им в форму былины: их прямая связь с современностью не вызывает сомнений. Но в большинстве случаев эта связь истории с современностью обнаруживается лишь в соотношении с социально-политическими и историческими взглядами Толстого. Характерный пример - "Змей Тугарин". Персонажи в нем былинные; из былин заимствованы и отдельные детали, но общий замысел не восходит ни к былинам, ни к историческим фактам. Словесный поединок Владимира с Тугариным отражает не столько какие-либо исторические явления и коллизии, сколько собственные взгляды поэта. Толстой хорошо понимал это и писал Стасюлевичу, что в "Змее Тугарине" "сквозит современность". "Трипобоища" и "Песня о Гаральде и Ярославне" - это тоже не мимолетные зарисовки, а своеобразное выражение исторических представлений поэта. В основе их лежит мысль об отсутствии национальной замкнутости в Древней Руси и ее обширных международных связях. Не случайно в письмах по поводу этих стихотворений Толстой настойчиво говорит о брачных союзах киевских князей с европейскими царствующими домами. Таким образом, баллады являются результатом размышлений Толстого как над современной ему русской жизнью, так и над прошлым России.
Толстой считал, что художник вправе поступиться исторической точностью, если это необходимо для воплощения его замысла. В частности, приурочение фактов, отделенных иногда значительными промежутками, к одному моменту, нередко встречаются и в балладах, и в драматической трилогии. Они объясняются нередко соображениями чисто художественного порядка (см., например, примечание к балладе "Князь Михайло Репнин"). Однако анахронизмы и другие отступления от исторических источников имеют у Толстого и иное назначение.
В балладе "Три побоища" последовательно описаны гибель норвежского короля Гаральда Гардрада в битве с английским королем Гаральдом Годвинсоном, смерть Гаральда Годвинсона в бою с герцогом нормандским Вильгельмом Завоевателем, наконец, смерть великого князя Изяслава в сражении с половцами. Но сражение Изяслава с половцами, о котором идет речь в стихотворении, относится не к 1066, как первые две битвы, а к 1068 году, и к тому же он погиб лишь через десять лет после этого. Упоминая о допущенном им анахронизме, Толстой писал Стасюлевичу: "Мне до этого нет дела, и я все три поставил в одно время... Цель моя была передать только колорит той эпохи, а главное, заявить нашу общность в то время с остальной Европой, назло московским русопетам".
Толстой не разделял историко-политической концепции Н. М. Карамзина. И тем не менее основным фактическим источником баллад и драматической трилогии является "История Государства Российского". был для Толстого в первую очередь не политическим мыслителем и не академическим ученым, а историком-художником. Страницы "Истории Государства Российского" давали Толстому не только сырой материал; иные из них стоило чуть-чуть тронуть пером, и, оживленные точкой зрения поэта, они начинали жить новой жизнью - как самостоятельные произведения или эпизоды больших вещей.
Анализируя баллады и былины Толстого, необходимо иметь в виду тот идеал полноценной, гармонической человеческой личности, которого он не находил в современной ему действительности и который искал в прошлом. Храбрость, самоотверженность, глубокое патриотическое чувство, суровость и в то же время человечность, своеобразный юмор - вот черты этого искомого идеала. С глубоким сочувствием, но отнюдь не в иконописном духе рисует Толстой образ Владимира, совершившийся в нем внутренний переворот и введение христианства на Руси. Сквозь феодальную утопию просвечивают иногда совсем иные мотивы. Так, в образе "неприхотливого мужика" Ильи которому душно при княжеском дворе ("Илья Муромец"), нашли свое отражение демократические тенденции народной былины; этому не противоречит и то, что Толстой смягчил конфликт между русским богатырем и князем Владимиром.
Исторические процессы и факты Толстой рассматривал с точки зрения моральных норм, которые казались ему одинаково применимы и к далекому прошлому, и к сегодняшнему дню, и к будущему. В его произведениях борются не столько социально-исторические силы, сколько моральные и аморальные личности. Этой моралистической точке зрения на историю неизменно сопутствует в творчестве Толстого психологизация исторических деятелей и их поведения. В балладах она осуществляется часто не при помощи углубленного психологического анализа, как в драмах, а путем простого переключения исторической темы в план общечеловеческих переживаний, хотя на самые эти переживания поэт иногда только намекает. Так, в балладе "Канут" от истории остался лишь некий условный знак. Читателю достаточно имени героя, дающего тон, указывающего примерно эпоху, а точная расшифровка - что речь идет о шлезвигском герцоге Кнуде Лаварде, погибшем в 1131 году от руки своего двоюродного брата Магнуса, видевшего в нем опасного соперника, претендента на датский престол, - может быть, не так уже важна и вряд ли Толстой рассчитывал на наличие у читателей столь детальных сведений при восприятии стихотворения. Центр тяжести перенесен на психологию Канута, его детскую доверчивость, причем с душевным состоянием героя гармонирует картина расцветающей весенней природы. Толстой сознательно смягчил мрачный колорит этого эпизода, в частности прикрепил событие к весне, тогда как в действительности оно происходило зимою.
Погружение истории в природу, в лирический пейзаж и вообще в лирическую стихию, ослабление сюжета и растворение эпических элементов в лирических имеют место в целом ряде баллад и былин конца 60-х и 70-х годов. Все это тесно связано с настойчивым противопоставлением социально-политической жизни и истории вечных начал жизни природы, о котором говорилось выше. Поэт понимал эту особенность своих стихотворений. Посылая Маркевичу былину "Алеша Попович", он так определял жанровые особенности ряда своих произведений этих лет: "...жанр - предлог, чтобы говорить о природе и весне".
И по общему колориту, и по сюжетному строению многие баллады 60-70-х годов существенно отличаются от таких стихотворений, как "Василий Шибанов". В поздних балладах конкретно-исторические черты нередко оттеснялись на второй план, но зато появилась большая и разнообразие поэтических интонаций, усилился тот своеобразный лиризм и та теплота, которыми Толстой умел окружать своих героев.
"Когда я смотрю на себя со стороны... - писал Толстой Маркевичу 5 мая 1869года, - то кажется, могу охарактеризовать свое творчество в поэзии как мажорное, что резко отлично от преобладающего минорного тона наших русских поэтов, за исключением Пушкина". "Мажорный тон" представлялся, по-видимому, Толстому тем свойством, которое сближало его с духом русского народа, и интересно, что именно в этом отношении он считал себя преемником Пушкина.
Элементы "мажорного тона" были, конечно, и в лирике Толстого ("Коль любить, так без рассудку...", "Край ты мой, родимый край..."), но преобладали в ней иные мотивы и настроения. Новую настроенность поэт стремился утвердить в поэмах("Иоанн Дамаскин", "Грешница") и главным образом в балладах и былинах. Естественно, что приведенная автохарактеристика относится к последнему периоду творчества Толстого - годам его расцвета как автора баллад и количественного оскудения лирики.
Одним из самых существенных проявлений "мажорного тона" в творчестве Толстого и были образы, заимствованные из былевого эпоса и исторического прошлого. Поэта непреодолимо тянуло к ярким чувствам, волевым, цельным натурам - и именно там он находил их. Целая галерея подобных героев нарисована в его стихотворениях конца 60-х и 70-х годов. Это Илья Муромец, Владимир, Гакон Слепой, Галицкий, Гаральд и др. Проявлениями "мажорности" в поэзии Толстого были, прежде всего, приподнятые, торжественные интонации, красочные эпитеты, декоративность и живописность обстановки и пейзажа, пышность и величавость людей. С "мажорным тоном" связаны также свобода и непринужденность выражений, которые сам Толстой считал характерными чертами ряда своих произведений.
Разумеется, условный, нарочито нарядный мир баллад и былин Толстого вовсе не являлся для него воплощением реальной исторической действительности. В нем в полной мере царила поэтическая фантазия. Миру лирики Толстого, где доминируют грустные, минорные настроения, явно контрастен пестрый балладный мир, в котором господствует романтическая мечта.
Сатирические и юмористические стихотворения Толстого часто рассматривались как нечто второстепенное в его творчестве, а между тем они представляют не меньший интерес, чем его лирика и баллады. Эта область поэзии Толстого очень широка по своему диапазону - от остроумной шутки, много образцов которой имеется в его письмах, "прутковских" вещей, построенных на нарочитой нелепости, алогизме, каламбуре, до язвительного послания, пародии и сатиры. Вопреки собственным заявлениям о несовместимости "тенденции" и подлинного искусства, он писал откровенно тенденциозные стихи.
Сатиры Толстого направлены, с одной стороны, против демократического лагеря, а с другой - против правительственных кругов. И хотя борьба поэта с бюрократическими верхами и официозной идеологией была борьбой внутри господствующего класса, социальная позиция Толстого давала ему возможность видеть многие уродливые явления современной ему русской жизни. Поэтому он и смог создать такую замечательную сатиру, как "Сон Попова".
В "Сне Попова" мы имеем дело не с пасквилем на определенного министра, а с собирательным портретом бюрократа 60-70-х годов, гримирующегося под либерала. Согласно устному преданию, Толстой использовал черты министра внутренних дел, а затем государственных имуществ П. А. Валуева. Это вполне вероятно: все современники отмечали любовь Валуева к либеральной фразеологии. Но министр из "Сна Попова"- гораздо более емкий художественный образ; в нем мог узнать себя не один Валуев. И весьма характерно, что автор стихотворного ответа на "Сон Попова" возмущался Толстым за то, что он якобы высмеял А. В. Головина - другого крупного бюрократа этого времени, питавшего пристрастие к либеральной позе.
Речь министра, наполненная внешне либеральными утверждениями, из которых, однако, нельзя сделать решительно никаких практических выводов, - верх сатирического мастерства Толстого. Поэт не дает прямых оценок речи и поведения министра, но остроумно сопоставляет его словесный либерализм и расправу с Поповым за "ниспровержение властей", выразившееся в том, что, отправившись поздравить министра, он забыл надеть брюки.
В сатире высмеян не только министр, но и всесильное Третье отделение, известное, как язвительно пишет поэт, своим "праведным судом". Сентиментальная и ласковая речь полковника из Третьего отделения, быстро переходящая в угрозы, донос Попова, целый ряд деталей также переданы яркими и сочными красками. А негодование читателя-обывателя в конце "Сна Попова" и его упреки по адресу поэта в незнании "своей страны обычаев и лиц" ("И где такие виданы министры?.. И что это, помилуйте, за дом?" и пр.),над которыми явно издевается Толстой, еще более подчеркивает исключительную меткость сатиры.
Другая сатира Толстого, "История государства Российского от Гостомысла до Тимашева", знаменита злыми характеристиками русских монархов. Достаточно перечитать блестящие строки о Екатерине II, чтобы убедиться, что это не одно лишь балагурство. Острый взгляд поэта сквозь поверхность явлений умел проникать в их сущность.
Основной тон сатиры, шутливый и нарочито легкомысленный, пародирует ложный патриотический пафос и лакировку прошлого в официальной исторической науке того времени. Здесь Толстой соприкасается с Щедриным, с его "Историей одного города". Толстой близок к Щедрину и в другом, не менее существенном отношении. Как и" История одного города", "История государства Российского от Гостомысла до Тимашева" отнюдь не является сатирой на русскую историю; такое обвинение могло исходить лишь из тех кругов, которые стремились затушевать подлинный смысл произведения. Было бы легкомысленно отождествлять политический смысл сатиры Щедрина и Толстого, но совершенно ясно, что и Толстой обращался лишь к тем историческим явлениям, которые продолжали свое существование в современной ему русской жизни, и мог бы вместе с Щедриным сказать: "Если б господство упомянутых выше явления кончилось...то я положительно освободил бы себя от труда полемизировать с миром уже отжившим"(письмо в редакцию "Вестника Европы"). И действительно, вся сатира Толстого повернута к современности. Доведя изложение до восстания декабристов и царствования Николая I, Толстой недвусмысленно заявляет: "...о том, что близко, // Мы лучше умолчим". Он кончает "Историю государства Российского" ироническими словами о "зело изрядном муже" Тимашеве. А. Е. Тимашев - в прошлом управляющий Третьим отделением, только что назначенный министром внутренних дел, - осуществил якобы то, что не было достигнуто за десять веков русской истории, то есть водворил подлинный порядок. Нечего и говорить, как язвительно звучали эти слова в обстановке все более усиливавшейся реакции.
Главный прием, при помощи которого Толстой осуществляет свой замысел, состоит в том, что о князьях и царях он говорит, употребляя чисто бытовые характеристики вроде "варяги средних лет" и описывая исторические события нарочито обыденными, вульгарными выражениями: "послал татарам шиш" и т. п. Толстой очень любил этот способ достижения комического эффекта при помощи парадоксального несоответствия темы, обстановки, лица со словами и самым тоном речи. Бытовой тон своей сатиры Толстой еще более подчеркивает, называя его в конце "Истории" летописным: "Я грешен, летописный, // Я позабыл свой слог".
В других сатирах Толстого высмеиваются мракобесы, цензура, национальная нетерпимость, казенный оптимизм. "Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме", хотя в нем и имеется несколько грубых строф о нигилистах, в целом направлено против обскурантизма. В связи со слухами о запрещении одного из произведений Дарвина Толстой высмеивает Лонгинова, возглавлявшего цензурное ведомство, иронически рекомендует ему, если уж он стоит на страже церковного учения о мироздании и происхождении человека, запретить заодно и Галилея. Своеобразным гимном человеческому разуму, не боящемуся никаких препон, звучат заключительные строки стихотворения:
С Ломоносовым наука,
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток, и т. д.
Стихотворения "Порой веселой мая..." и "Поток-богатырь", направленные против демократического лагеря, вызвали естественное недовольство передовой печати. Так, в одной из глав "Дневника провинциала в Петербурге" Салтыкова-Щедрина описано, как "Порой веселой мая..." с удовольствием читают на рауте у "председателя общества благих начинаний отставного генерала Проходимцева".
Это стихотворение построено на парадоксальном сопоставлении фольклора со "злобой дня"; комизм заключается в том, что два лада, он - в "мурмолке червленой" и корзне, шитом каменьями, она в "венце наборном" и поняве, беседуют о нигилистах, о способах борьбы с ними, упоминают мимоходом о земстве. То же в "Потоке-богатыре", в последних строфах которого речь идет о суде присяжных, атеизме, "безначальи народа", прогрессе. Это, по выражению самого Толстого, "выпадение из былинного тона" (журнальная редакция "Потока-богатыря") близко поэзии Гейне. В рассказ Тангейзера Венере (в балладе "Тангейзер") Гейне вставил злые остроты о швабской школе, Тике, Эккермане. С точки зрения приемов комического сатиры Толстого близки к "Тангейзеру".
Особо следует отметить стихотворения, в которых хорошо передан народный юмор. В одном из них - "У приказных ворот собирался народ..." - ярко выражены презрение и ненависть народа к обдирающим его приказным. То же народное стремление - "приказных побоку да к черту!"; тоска народных масс по лучшей доле, их мечта о том, чтобы" всегда чарка доходила до рту" и чтобы "голодный всякий день обедал", пронизывают стихотворение "Ой, ка б Волга-матушка да вспять побежала!..".
Говоря о сатире и юморе Толстого, нельзя хотя бы коротко не остановиться на Козьме Пруткове. Самостоятельно и в сотрудничестве с Жемчужниковыми Толстой написал несколько замечательных пародий, развенчивающих эстетизм и тягу к внешней экзотике. Антологические мотивы и эстетский поэтический стиль Щербины; увлечение романтической экзотикой Испании; плоские подражания Гейне, искажающие сущность его творчества, - вот объекты пародий Толстого. В стихотворении "К моему портрету" язвительно высмеян общий облик самовлюбленного поэта, оторванного от жизни, клянущего толпу и живущего в призрачном мире. Другие прутковские вещи Толстого имеют в виду не литературу, а явления современной ему действительности. Так," Звезда и Брюхо" - издевка над чинопочитанием и погоней за орденами.
Здесь нет возможности охарактеризовать все приемы комического у Толстого: метод доведения до абсурда; вывод, совершенно несоответствующий посылкам; использование в комическом плане славянизмов, иностранных слов, имен, комическую функцию рифмы и т. д. Толстой как юморист оказал существенное влияние на позднейшую поэзию; такой мастер шутки, как Вл. Соловьев, совершенно непонятен вне традиций Толстого и Козьмы Пруткова. С другой стороны, многому мог научиться у Толстого и Маяковский, прекрасно знавший, по свидетельству современников, его поэзию.
Тяга к драматургии обнаружилась у Толстого с самого начала его литературной деятельности. К концу 30-х годов относится ряд остроумных юмористических набросков, в известной степени предвосхищающих драматическое творчество еще не существовавшего тогда Козьмы Пруткова.
В 40-х годах какие-то первоначальные наброски "Князя Серебряного" Толстой делал, по-видимому, в драматической форме. В 1850 году написана пародийная пьеса" Фантазия".
В 1862 году появилась "драматическая поэма" "Дон Жуан". Обратившись к много раз использованному в мировой литературе образу, Толстой стремился дать ему свое, оригинальное толкование. Дон Жуан не был в его глазах тем безбожником и развратником, который впервые изображен в пьесе Тирсо де Молина, а вслед за нею и в целом ряде других произведений. Был далек от замысла Толстого и гораздо более сложный, но насквозь "земной" образ Дон Жуана в "Каменном госте" Пушкина, хотя в отдельных местах пьесы совпадения с Пушкиным совершенно очевидны. Неслучайно она посвящена памяти Моцарта и Гофмана. По словам Толстого, рассказ которого о Дон Жуане написан в виде впечатлений от музыки Моцарта, первый увидел в Дон Жуане "искателя идеала, а не простого гуляку" (письмо к Маркевичу от 20 марта 1860 г.). Романтический идеал любви мерещится Дон Жуану в каждом мимолетном любовном приключении, но он неизменно обманывается в своих ожиданиях, и этим, а не порочной натурой, не пресыщением, объясняется, по Толстому, его разочарование и озлобление Толстой сблизил Дон Жуана с Фаустом в его романтической интерпретации, превратив его в своеобразного искателя истины и наделив его вместе с тем романтическим томлением по чему-то неясному и недостижимому.
В 60-е годы была создана драматическая трилогия. После ее завершения Толстой стал искать сюжет для нового драматического произведения, и у него возник замысел чисто психологической драмы - "представить человека, который из-за какой-нибудьп ричины берет на себя кажущуюся подлость" (письмо к жене от 10 июля 1870 г.).В процессе обдумывания замысел принял более конкретные очертания: причиной этой оказывается спасение города, и тогда уже, как внешняя рама, как фон, появился Новгород XIII века. В этой драме, получившей название "Посадник", перед нами Новгород в момент борьбы с суздальцами, которые вот-вот ворвутся в него. Новгородский посадник, желая противостоять стремлению некоторых влиятельных лиц сдать город, принимает на себя мнимую вину; он делает это, чтобы спасти нового воеводу, устранение которого было бы равносильно падению города. Таким образом, ядро замысла не связано с историей; однако исторический колорит (нравы, обычаи, отдельные образы)и народные сцены, особенно сцена веча, переданы в пьесе ярко и выразительно. Толстой был очень увлечен драмой, но закончить ее ему не удалось.
Самой значительной в наследии Толстого-драматурга является его трилогия, трагедия на тему из русской истории конца XVI - начала XVII века.
Трагедия Толстого не принадлежит к бесстрастным воспроизведениям прошлого, но было бы бесполезно искать в них и непосредственных конкретных намеков на Россию 60-х годов, Александра II, его министров и пр. В этом отношении Толстой был близок к Пушкину, отрицательно оценивавшему французскую tragedie des allusions (трагедию намеков). Это не исключает, однако, наличия "второго плана", то есть лежащей в их основе политической мысли, как в "Борисе Годунове" Пушкина, таки в трилогии Толстого. Самый выбор эпохи, размышления Толстого о социальных силах, действовавших в русской истории, о судьбах монархической власти в России тесно связаны с его отрицательным отношением к абсолютизму и бюрократии. Неслучайно цензура, придравшись к пустяковому поводу, запретила постановку "Смерти Иоанна Грозного" в провинции; в течение тридцати лет она не допускала на сцену" Царя Федора Иоанновича", как пьесу, колеблющую принцип самодержавия.
Основные проблемы отдельных пьес Толстого заключены в образах их главных героев и сформулированы самим поэтом. В "Смерти Иоанна Грозного" Захарьин над трупом Иоанна произносит:
О царь Иван! Прости тебя господь!
Прости нас всех! вот самовластья кара!
Вот распаденья нашего исход!
Вторая часть трилогии заканчивается словами Федора:
Моей виной случилось все! А я -
Хотел добра, Арина! Я хотел
Всех согласить, все сгладить - боже, боже!
За что меня поставил ты царем!
Наконец, в последней части Толстой вкладывает в уста Бориса следующие слова:
От зла лишь зло родится - все едино:
Себе ль мы им служить хотим иль царству -
Оно ни нам, ни царству впрок нейдет!
Итак, расшатывающий государство деспотизм Ивана, бесхарактерность и слабоволие замечательного по своим душевным качествам, но неспособного правителя Федора, преступление Бориса, приведшее его на трон и сводящее на нет всю его государственную мудрость, - вот темы пьес, составивших трилогию. Показывая три различных проявления самодержавной власти, Толстой рисует вместе с тем общую растлевающую атмосферу самовластья.
Через всю трилогию проходит тема борьбы самодержавия с боярством. Боярство показано в трилогии с его своекорыстными интересами и интригами, но именно среди боярства поэт все же находит мужественных, сохранивших чувство чести людей. Столкновение этих двух социальных сил показано с исключительной напряженностью и яркостью. Читатель и зритель воспринимают его независимо от симпатий и антипатий автора. В 1890 году, перечитав трилогию, В. Г. Короленко записал в дневник, что, "несмотря на очень заметную ноту удельно-боярского романтизма и отчасти и прямой идеализации боярщины", она произвела на него "очень сильное и яркое впечатление ". И это вполне естественно. Обобщающая сила образов Толстого выводит их за пределы той исторической концепции писателя, к которой они генетически восходят. В частности, обобщающий смысл образа Ивана Грозного, воплощающего в себе идею неограниченной самодержавной власти, неограниченного произвола, подчеркнут и самим Толстым в его "Проекте постановки" первой трагедии.
Лучшие представители боярства, которым Толстой явно симпатизирует, оказываются людьми, непригодными для государственной деятельности, социальные идеалы которых обречены историей. Это отчетливо ощущается в пьесах. Об этом говорится и в "Проекте постановки" "Царя Федора Иоанновича". "Такие люди, - подытоживает Толстой характеристику И. П. Шуйского, - могут приобрести восторженную любовь своих сограждан, но они не созданы осуществлять перевороты в истории. На это нужны не Шуйские, а Годуновы ".Не Шуйские, потому что Шуйский - воплощение прямоты, честности и благородства; ему претят всякие кривые пути, всякий обман и коварство, какой бы политической целью они ни оправдывались. Образы Шуйского и Федора особенно убедительно показывают, что моральные проблемы оттесняют в трилогии проблемы социально-исторические. Толстой понимал, что победа новых исторических сил неизбежна, но хотел бы, чтобы при этом не утрачивались бесспорные общечеловеческие ценности.
Для выяснения задач исторической драмы в понимании Толстого необходимо иметь в виду противопоставление человеческой и исторической правды. "Поэт... имеет только одну обязанность, - писал он в "Проекте постановки" "Смерти Иоанна Грозного",- быть верным самому себе и создавать характеры так, чтобы они сами себе не противоречили; человеческая правда - вот его закон; исторической правдой он не связан. Укладывается она в его драму - тем лучше; не укладывается - он обходится и без нее". Задача воссоздания исторической действительности и подлинных исторических образов не являлись для него решающими.
В подтверждение своих мыслей Толстой, по свидетельству современника, цитировал строки из "Смерти Валленштейна" Шиллера. И это понятно. В трагедиях Толстого, так же как и в трилогии Шиллера, историко-политическая тема разрешается в индивидуально-психологической плоскости. Отчасти поэтому народные массы как основная движущая сила истории не играют существенной роли в трилогии Толстого, не определяют развития действия, как в "Борисе Годунове" Пушкина или исторических хрониках Островского, хотя некоторые массовые сцены и отдельные фигуры (например, купец Курюков в "Царе Федоре Иоанновиче") очень удались Толстому. В последней, неоконченной драме "Посадник" народ должен был, вероятно, играть более активную роль, чем в трилогии.
Толстой отрицательно относился к жанру драматической хроники, которую считал бесполезным фотографированием истории. Его художнический интерес сосредоточивался не на последовательном, лишь с сравнительно небольшими анахронизмами, изображении исторических событий, как в хрониках Н. А. Чаева и в некоторых пьесах Островского, и не на бытовых картинах, как в "Каширской старине" Д. В. Аверкиева, а на психологическом портрете главных героев. Вокруг них, вокруг раскрытия их характеров, их душевного мира концентрируется все развитие действия.
Наиболее яркой из трех пьес, составивших трилогию, без сомнения, является вторая - "Царь Федор Иоаннович". Этим объясняется ее замечательная сценическая история, и в первую очередь длительная жизнь на сцене Московского Художественного театра, в истории которого "Царь Федор Иоаннович" занимает выдающееся место. Его построение писатель считал наиболее искусным и более всех других любил его главного героя (письмо к Маркевичу от 3 ноября 1869 г.). Оригинальная композиция пьесы привела к наиболее гармоническому сочетанию, по сравнению с двумя другими, психологического портрета героя с развитием сюжета.
Центральные персонажи трилогии - в отличие от многих исторических драм романтиков(например, "Эрнани" В. и др.), в отличие от романа самого Толстого "Князь Серебряный" - лица исторические. Это Иван Грозный, Федор и Борис Годунов . Наиболее оригинальным из них является Федор. Если образы Ивана и Бориса в основном восходят к Карамзину, то, создавая образ Федора, Толстой ни в малейшей степени не опирался на автора "Истории Государства Российского". Толстой дает понять это своему читателю в "Проекте постановки" трагедии. Говоря о том, что он хотел изобразить Федора "не просто слабодушным, кротким постником, но человеком, наделенным от природы самыми высокими душевными качествами, при недостаточной остроте ума и совершенном отсутствии воли", что в "характере Федора есть как бы два человека, из коих один слаб, ограничен, иногда даже смешон; другой же, напротив, велик своим смирением и почтенен своей нравственной высотой", Толстой явно полемизирует не только с современной ему критикой, но и с мнением Карамзина об этом "жалком венценосце". Герой Толстого не является также повторением того иконописного лика, который мы находим в ряде древнерусских сказаний и повестей о Смутном времени.
Глубокая человечность отличает весь образ Федора, и это сделало его благодарным материалом для ряда выдающихся русских артистов - И. М. Москвина, П. Н. Орленева, С. Л. Кузнецова, Н. П. Хмелева. Оценивая пьесу как "художественный перл", "жемчужину нашей драматургии", резко выделяющуюся на фоне ничтожного репертуара конца XIX века, В. Г. Короленко заметил в связи с постановкой театра Суворина: "Характер Федора выдержан превосходно, и трагизм этого положения взят глубоко и с подкупающей задушевностию". Есть, без сомнения, нечто близкое между образом Федора и главным героем романа Достоевского "Идиот". Это особенно интересно, поскольку произведения были задуманы и написаны одновременно ("Царь Федор Иоаннович" несколько раньше),и вопрос о воздействии образа князя Мышкина на героя трагедии Толстого тем самым отпадает. Когда П. Н. Орленеву скоро после его исключительного успеха в роли Федора принесли инсценировку "Идиота", он решительно отказался играть: "боялся повторить в князе Мышкине царя Федора - так много общего у них".
В отличие от многих своих предшественников в области русской исторической драмы Толстому несвойственно прямолинейное распределение героев на злых и добрых. В его "злых" есть свои положительные качества (Борис), а в "добрых" - свои слабые стороны (Федор, Шуйский). "В искусстве бояться выставлять недостатки любимых нами лиц - не значит оказывать им услугу, - писал Толстой. - Оно, с одной стороны, предполагает мало доверия к их качествам; с другой - приводит к созданию безукоризненных и безличных существ, в которые никто не верит". И в ряде мест трагедии Толстой не боится вызвать у читателей и зрителей улыбку, выставив глубоко симпатичного ему Федора в комическом свете, сообщив ему смешные бытовые черты, делающие его облик земным и человеческим.
Внутренний мир героев Толстого не исчерпывается господством какой-нибудь одной абстрактной, неизменной страсти. Герои Толстого - живые, конкретные люди; они наделены индивидуальными особенностями и эмоциями. Если в Иване и Борисе первой части трилогии еще ощутимы черты традиционных романтических злодеев, то Федор, Борис второй и третьей трагедий, Иван Петрович Шуйский, Василий Шуйский показаны монументально и в то же время в их сложности и противоречивости. Психологический реализм некоторых образов трилогии позволил В. О. Ключевскому в какой-то мере использовать их в своем известном курсе русской истории, а характеризуя Федора, он прямо цитирует Толстого.
Самый замысел трилогии, объединенной не только последовательностью царствований и событий, но также общностью морально-философской и политической проблемы, представляет собой незаурядное явление в истории русской драматургии. Говоря о глубине, содержательности и гуманизме русского искусства, А. В. Луначарский в числе "перлов русской драматургии" называет и пьесы Алексея Толстого (статья "О будущем Малого театра").
Творчество А. К. Толстого, как мы видели, весьма разнообразно и носит на себе отпечаток щедрого, оригинального таланта с "лица необщим выраженьем". Все лучшее из его писательского наследия продолжает оставаться живым литературным явлением и для современных читателей, по-настоящему волнуя и трогая, вызывая то чувство внутренней радости или легкой грусти, то гнев и негодование, то ироническую усмешку или взрыв уничтожающего смеха.
Если домашнее задание на тему: » Биография Толстой А. К. часть 3 – художественный анализ. Толстой Алексей Константинович оказалось вам полезным, то мы будем вам признательны, если вы разместите ссылку на эту сообщение у себя на страничке в вашей социальной сети.
В его судьбе не просматриваются «страсти», столкновения, драматические коллизии. И исследователи не ломают копий по его поводу. Разве что один напишет: «Талантливый сатирик», другой: «Несравненно интереснее Толстой как поэт и драматург», а третий вдруг: «Человек благородной и чистой души».
Алексей Константинович немного меркнет в ауре своих блистательных однофамильцев-писателей, дальних родственников - Льва Николаевича и Алексея Николаевича. В нем вообще мало блеска, скорее неяркий, но ровный свет. Всегда - «рядом» с великими. Ребенком он сидел на коленях у самого Гёте, в его детский альбом рисовал сам Брюллов, ранние поэтические опыты одобрил сам Жуковский, а по слухам - даже Пушкин. Был другом детства будущего императора Александра II. Членом-корреспондентом Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности был избран в один день со Львом Николаевичем… И так всю жизнь.
Его можно считать «фоном» русской литературы. Однако след, оставленный им, отчетлив. Начиная со строк, авторство которых с трудом вспомнит читатель: «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Земля наша большая, порядка только нет» и даже «Если у тебя есть фонтан - заткни его…». А заканчивая самим духом русской поэзии. Потому что русская поэзия - не только Пушкин и Блок, а еще и такие имена, как Алексей Константинович Толстой, негромкие, но таящие тонкость и очарование, глубину, благородство и силу. Благословенна культура, у которой такой «фон».
От царедворца к свободному художнику
Высок, красив, необычайно силен (руками мог кочергу узлом завязать), приветлив, обходителен, остроумен, наделен великолепной памятью… Этот русский барин был желанным гостем всех аристократических салонов и гостиных. Происходил он из старинного знатного рода - дедом его по матери был знаменитый Алексей Разумовский, сенатор при Екатерине II и министр народного просвещения при Александре I. Дядей с той же материнской стороны - автор «Черной курицы» Антоний Погорельский. Дядей по отцу - известный Толстой-медальер.
Так случилось, что в восьмилетнем возрасте Алеша Толстой оказался товарищем детских игр цесаревича Александра. И в 1855 году, едва вступив на престол, император Александр II призвал его к себе, произвел в подполковники и назначил своим флигель-адъютантом. Алексей Константинович верой и правдой служил государю, но «служебное положение» использовал и для того, чтобы помогать попавшим в беду литераторам: вернул в Петербург Тараса Шевченко, забритого в солдаты, вступился за Ивана Аксакова, вызволил из-под суда И. С. Тургенева… Но вот попытка заступиться за Н. Г. Чернышевского окончилась неудачно: Алексей Константинович вынужден был подать в отставку. Зато теперь у него появилось свободное время для литературного творчества.
Впрочем, именно искусство он считал своим подлинным предназначением. По отзывам современников, Толстой был человеком благородной и чистой души, начисто лишенным каких бы то ни было тщеславных устремлений. Устами одного из своих литературных персонажей - Иоанна Дамаскина - он прямо говорил об этом: «Простым рожден я быть певцом, глаголом вольным Бога славить...»
Писать Толстой начал уже в раннем возрасте. Первый свой рассказ «Упырь», написанный в фантастическом жанре, он выпустил в 1841 году под псевдонимом Краснорогский. Впрочем, позднее не придавал ему большого значения и даже не хотел включать в собрание своих сочинений.
После длительного перерыва, в 1854 году, в журнале «Современник» появились его стихотворения и сразу обратили на себя внимание публики. А затем родился знаменитый Козьма Прутков - под этим псевдонимом скрывались несколько человек, в том числе двоюродные братья писателя Алексей и Владимир Жемчужниковы, однако перу Толстого принадлежит немалое количество стихотворений. Юмор Алексея Константиновича неповторим: тонкий, но не злобный, даже добродушный. От имени тупого и самовлюбленного бюрократа в стихах, баснях, эпиграммах, драматических миниатюрах высмеиваются самые неприглядные явления русской жизни того времени. О проделках Толстого и Жемчужниковых весело говорил весь петербургский и московский свет, но и Николай I, и потом Александр II были недовольны. В ироническом стиле написаны и другие его произведения - «Очерк русской истории от Гостомысла до Тимашева» и «Сон Попова». «Очерк...» любопытен и с литературной, и с исторической точки зрения: в нем с большим юмором описываются многие события российской жизни и некоторые исторические личности.
Потом в журнале «Русский вестник» М. Н. Каткова были опубликованы драматическая поэма «Дон Жуан» и исторический роман «Князь Серебряный», стихотворения, написанные в архаическо-сатирическом жанре. Затем Толстой начал писать первую часть драматической трилогии - «Смерть Иоанна Грозного». Она с необычайным успехом шла на театральной сцене и кроме многочисленных чисто литературных достоинств ценна еще и тем, что в свое время явилась первой попыткой вывести реальный образ царя - царя-человека, живую личность, а не возвышенный портрет одного из великих мира сего.
Позже Алексей Константинович активно сотрудничал с «Вестником Европы» М. М. Стасюлевича. Здесь напечатал стихотворения, былины, автобиографическую повесть, а также две заключительные части драматической трилогии - «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Их отличают глубокий психологизм главных героев, строгая последовательность изложения материала, прекрасный стиль… Впрочем, эти достоинства присущи большинству литературных творений Толстого, ставших образцами мировой классической литературы.
Над схваткой
Единодушная в других случаях литературная критика очень противоречиво оценивает литературную позицию Алексея Толстого. Одни авторы пишут, что он был типичным западником, другие настаивают на его славянофильских пристрастиях. Но он ни к какому лагерю принадлежать не хотел.
С 1857 года стали прохладнее отношения между Толстым и редакцией «Современника». «Признаюсь, что не буду доволен, если ты познакомишься с Некрасовым. Наши пути разные», - писал он тогда жене. Разногласия с демократами и либералами сблизили Толстого со славянофилами - поборниками российской старины и самобытности. Алексей Константинович сдружился с И. С. Аксаковым и стал постоянным автором «Русской беседы». Но уже через несколько лет и здесь обнаружились существенные расхождения. Толстой не раз высмеивал претензии славянофилов на представительство подлинных интересов русского народа. С начала 1860-х он подчеркнуто отстранялся от политической жизни и - несмотря на их враждебное отношение друг к другу - печатался и в «Русском вестнике» и в «Вестнике Европы».
Он держался собственных взглядов на исторические пути России в прошлом, настоящем и будущем. И его патриотизм - а он безусловно был патриотом - имел особую окраску.
«Истинный патриотизм, - писал позже о Толстом Владимир Соловьев, - заставляет желать своему народу не только наибольшего могущества, но - главное - наибольшего достоинства, наибольшего приближения к правде и совершенству, т. е. к подлинному, безусловному благу… Прямая противоположность такому идеалу - насильственное, нивелирующее единство, подавляющее всякую частную особенность и самостоятельность».
Поэтому к революционерам и социалистам А. К. Толстой относился отрицательно, но с революционной мыслью боролся отнюдь не с официозных монархических позиций. Он всячески высмеивал бюрократию, консерваторов, негодовал на деятельность III (жандармского) Отделения и цензурный произвол, во время польского восстания вел борьбу с влиянием Муравьева Вешателя, решительно возражал против зоологического национализма и русификаторской политики самодержавия.
Следуя своему чувству правды, Толстой не мог отдаться всецело одному из враждующих станов, не мог быть партийным борцом - он сознательно отвергал такую борьбу:
Средь шумного бала…
В тот незабываемый вечер навсегда перевернулась его жизнь… Зимой 1851 года на маскараде в Большом театре граф встретил незнакомку под маской, даму с прекрасной фигурой, глубоким красивым голосом и пышными волосами… В тот же вечер, так и не узнав ее имени, он написал одно из самых знаменитых своих стихотворений «Средь шумного бала…». С тех пор вся любовная лирика А. К. Толстого посвящена только Софье Андреевне Миллер (урожденной Бахметевой), женщине незаурядной, умной, волевой, прекрасно образованной (она знала 14 языков), но непростой судьбы.
Он страстно влюбился, любовь его не осталась без ответа, но соединиться они не могли - она была замужем, пусть и неудачно. Спустя 13 лет они смогли наконец-то пожениться, и брак их оказался счастливым. Толстой всегда скучал без Софьи Андреевны, даже в коротких разлуках. «Бедное дитя, - писал он ей, - с тех пор, как ты брошена в жизнь, ты знала только бури и грозы… Мне тяжело даже слушать музыку без тебя. Я будто через нее сближаюсь с тобой!» Он постоянно молился за жену и благодарил Бога за дарованное счастье: «Если бы у меня был Бог знает какой успех литературный, если бы мне где-нибудь на площади поставили статую, все это не стоило бы четверти часа - быть с тобой, и держать твою руку, и видеть твое милое, доброе лицо!»
В эти годы родились на свет две трети его лирических стихотворений, которые печатались почти во всех тогдашних российских журналах. Однако его любовные стихотворения отмечены глубокой грустью. Откуда она в строках, созданных счастливым влюбленным? В его стихотворениях на эту тему, как отмечал Владимир Соловьев, выражена только идеальная сторона любви: «Любовь есть сосредоточенное выражение… всемирной связи и высшего смысла бытия; чтобы быть верною этому своему значению, она должна быть единою, вечною и неразрывною»:
Но условия земного существования далеко не соответствуют этому высшему понятию любви; поэт не в силах примирить этого противоречия, но и не хочет ради него отказаться от своего идеализма, в котором - высшая правда.
Эта же ностальгия отразилась и в драматической поэме «Дон Жуан», заглавный герой которой - не коварный обольститель, а юноша, который в каждой женщине ищет идеал, «к какой-то цели все неясной и высокой Стремится он неопытной душой». Но, увы, не находит на земле этого идеала. Однако, овладев сердцем поэта, любовь открылась ему как сущность всего существующего.
| Меня, во мраке и в пыли Досель влачившего оковы, Любови крылья вознесли В отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, И стал мне виден мир незримый, И слышит ухо с этих пор Что для других неуловимо. И с горней выси я сошел, Проникнут весь ее лучами, И на волнующийся дол Взираю новыми очами. И слышу я, как разговор Везде немолчный раздается, Как сердце каменное гор С любовью в темных недрах бьется, С любовью в тверди голубой Клубятся медленные тучи, И под древесною корой, Весною свежей и пахучей, С любовью в листья сок живой Струей подъемлется певучей. И вещим сердцем понял я, Что все рожденное от Слова, Лучи любви кругом лия, К нему вернуться жаждет снова. И жизни каждая струя, Любви покорная закону, Стремится силой бытия Неудержимо к Божью лону; И всюду звук, и всюду свет, И всем мирам одно начало, И ничего в природе нет, Что бы любовью не дышало. |
Против течения
А. К. Толстой, которого принято считать преимущественно лириком или историческим писателем, в крайнем случае сатириком, был, по определению Соловьева, поэтом мысли воинствующей - поэтом-борцом: «Наш поэт боролся оружием свободного слова за право красоты, которая есть ощутительная форма истины, и за жизненные права человеческой личности»:
Этот мягкий, тонкий человек со всей силой своего таланта прославлял, в прозе и стихах, свой идеал. Не ограничиваясь спокойным отображением того, что являлось из «страны лучей», его творчество определялось еще движениями воли и сердца, реакцией на враждебные явления. А враждебным он считал то, что отрицало или оскорбляло высший смысл жизни, отражение которого есть красота. Красота была для него дорога и священна как сияние вечной истины и любви, как отблеск Высшей и Вечной Красоты. И он смело шел за нее против течения:
Мы неслучайно так обильно цитируем Владимира Соловьева, нашего первого - и великого - философа. Он не был лично знаком с Алексеем Константиновичем, но очень ценил его и его творчество за многие достоинства. Прежде всего они сходились в своем пристрастии к идеалистической философии Платона. Толстой полагал, что истинный источник поэзии, как и всякого творчества, - не во внешних явлениях и не в субъективном уме художника, а в мире вечных идей, или первообразов:
Какую же роль играет сам художник? - Он ничего не выдумывает, да и не может выдумать, создать в том смысле, в каком это понимаем мы сегодня. Он связующее звено, посредник между миром вечных идей, или первообразов, и миром вещественных явлений. «Художественное творчество, в котором упраздняется противоречие между идеальным и чувственным, между духом и вещью, есть земное подобие творчества божественного, в котором снимаются всякие противоположности» (В. Соловьев)…
Алексей Константинович Толстой умер в 1875 году. Ему было 58, дела его были расстроены, здоровье подорвано, но не это было главным… Подводя итоги жизни, он вновь и вновь задавался вопросом: а выполнено ли предназначение, оставлен ли след?
Как бы ни относились мы к творчеству Алексея Константиновича, на этот вопрос нельзя не ответить удовлетворительно. Владимир Соловьев так отметил его значение: «Как поэт, Толстой показал, что можно служить чистому искусству, не отделяя его от нравственного смысла жизни, - что это искусство должно быть чисто от всего низменного и ложного, но никак не от идейного содержания и жизненного значения. Как мыслитель, он дал в поэтической форме замечательно ясные и стройные выражения старому, но вечно истинному платоническо-христианскому миросозерцанию. Как патриот, он горячо стоял за то именно, что всего более нужно для нашей родины, и при этом - что еще важнее - он сам представлял собою то, за что стоял: живую силу свободной личности».
на журнал "Человек без границ"
Сатира А. К. Толстого, написанная в конце шестидесятых годов прошлого века, может быть прокомментирована несколькими способами. Прежде всего здесь следует указать на те возможности смыслового истолкования, которые таятся во внетекстовых сопоставлениях. Так, например, возможны соотнесения анализируемого текста с внетекстовой политической реальностью эпохи А. К. Толстого, а также соотнесения его с другими текстами:
1. Нехудожественными - здесь возможны различные аспекты исследования:
а. Сопоставления с историко-философскими идеями, распространенными, начиная с Белинского и Герцена, в русской публицистике, философии и исторической науке 1840–1860-х гг. Имеются в виду представления, согласно которым крепостное право и самодержавная бюрократия являют в русской государственной жизни «восточное» начало, начало неподвижности, противоположное идее прогресса. Можно было бы привлечь цитаты из Белинского и других публицистов о Китае, как стране, в которой стояние на месте заменило и историю, и общественную жизнь, стране, противоположной историческому динамизму Европы.
б. Сопоставления с исторической концепцией самого А. К. Толстого, сближавшего Киевскую Русь с рыцарской романской Европой, а в последующей русской истории усматривавшего черты «азиатчины» и «китаизма», нанесенные владычеством монголов.
в. Сближение А. К. Толстого со славянофильской мыслью в разных ее проявлениях и отталкивания от нее.
г. Многие аспекты историко-философской концепции А. К. Толстого удивительно близки к мыслям А. В. Сухово-Кобылина. Сопоставление текстов дало бы здесь ощутимые результаты.
д. Установление исторических корней концепций А. К. Толстого (здесь, в первую очередь, напрашивается тема «H. M. Карамзин и А. К. Толстой») и их последующей судьбы (А. К. Толстой и Вл. Соловьев, сатирическая традиция поэзии XX в. и др.).
2. Художественными:
а. Сопоставление текста с другими сатирическими произведениями А. К. Толстого.
б. Сопоставление с несатирическими произведениями А. К. Толстого, написанными приблизительно в то же время («Змей Тугарин», «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три побоища» и др.).
в. Сопоставление текста с сатирической и исторической поэзией 1860-х гг. Все эти методы анализа можно назвать контекстными: произведение включается в различные контексты, сопоставления, противопоставления; построения инвариантных схем позволяют раскрыть специфику структуры данного текста.
Однако мы ставим перед собой значительно более узкую задачу, ограничиваясь анализом внутритекстовых связей. Мы будем рассматривать только те структурные отношения, которые могут быть выявлены анализом данного текста. Однако и эта задача еще очень широка. Сужая ее, мы ограничимся суперлексическими уровнями: теми поэтическими сверхзначениями, которые возникают в данном тексте на тех уровнях, для которых слово будет выступать в качестве элементарной единицы.
Сформулированная таким образом задача может быть иначе определена как анализ лексико-стилистического механизма сатиры. При этом следует подчеркнуть, что сатира создается здесь внутренней структурой данного текста и не определена, например, жанром, как это бывает в басне 1 .
Семантическая структура анализируемого текста построена на несоответствиях. Именно смысловые несоответствия становятся главным носителем значений, основным принципом художественно-смысловой конструкции. В интересующем нас стихотворении мы сталкиваемся с несколькими стилистическими и смысловыми конструкциями, совмещение которых в пределах одного произведения оказывается для читателя неожиданным.
Первый пласт значений может быть условно назван «китайским». Он сознательно ориентирован на «Китай» не как на некоторую географическую и историческую реальность, а имеет в виду комплекс определенных, подчеркнуто тривиальных представлений, являющихся сигналами средних литературных представлений о Китае, распространенных в эпоху А. К. Толстого. Однако, несмотря на всю условность характеристик, адрес читателю дан вполне определенный. Приведем список слов, которые могут быть связаны в тексте только с темой Китая:
балдахин
китаец (китайцы)
Китай
мандарин (мандарины)
чай
Если прибавить два описания «обычаев»: «все присели» и «задами потрясли» и имя собственное Цу-Кин-Цын, то список «китаизмов» окажется исчерпанным. На 95 слов стихотворения их приходится 8. Причем, как это очевидно из списка, все они принадлежат одновременно и к наиболее тривиальным, и к наиболее отмеченным признакам того условно-литературного мира, который А. К. Толстой стремится вызвать в сознании читателей. Интересные наблюдения можно сделать и над распределением этих слов в тексте.
Приведенные данные с очевидностью убеждают, что «китайская» лексика призвана лишь дать тексту некоторый семантический ключ. В дальнейшем она сходит на нет. Все «китаизмы» представлены именами. Специфические «экзотизмы» поступков образуются на уровне фразеологии. Это сочетание «все присели, задами потрясли», рассчитанное на внесение в текст элемента кукольности 2 . Комическая условность клятвы «разным чаем» обнажается введением в формулу присяги указания на сортность, принятую в русской торговле тех лет.
Другой основной семантический пласт текста - ведущий к образам, идейным и культурным представлениям Древней Руси. «Древнеруссизмы» даны демонстративно, и их стилистическая активность рассчитана на чувство несовместимости этих пластов. «Древнеруссизмы» также распределены неравномерно: сгущены они во второй, третьей и четвертой строфах. При этом они также даны в наиболее прозрачных и тривиальных проявлениях. Это особенно заметно на фоне общей структуры «древнеруссизмов» в поэзии А. К. Толстого. В его исторических балладах встречаются такие задающие стилю окраску именно своей редкостью слова, как «дони», «дуб» (в значении «ладья»), «гуменцы» («Боривой»); «кут», «дром», «коты из аксамита», «бëрца», «обор», «крыжатый меч» («Сватовство») и др. При этом эффект их построен на том, что, будучи явно читателю неизвестными, они употреблены как общепонятные, без каких-либо пояснений или толкующих контекстов. Это вводит читателя в незнакомый ему мир и одновременно представляет этот мир как для себя обыденный. Но и в современной политической сатире (например, «Порой веселой мая… ») А. К. Толстой, используя архаизмы, нарочито выбирает наименее тривиальные.
В «Сидит под балдахином…» архаизмы сводятся к самым общеупотребительным в стилизованной поэзии славянизмам. Их всего три: «молвить», «гласить», «младой». К ним примыкает грамматический славянизм «в земли», архаизм «владыко» и просторечия, функционально выполняющие роль «русизмов»: «досель», «склад», «подумаешь». Основная «древнерусская» окраска придается выражением «досель порядка нет», которое представляет собой цитацию весьма известного отрывка из «Повести временных лет». В 1868 г. А. К. Толстой превратил его в рефрен «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Эпиграфом к тому же стихотворению он поставил: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет (Нестор . Летопись, стр. 8)».
Из сказанного можно сделать вывод, что ни «китаизмы», ни «руссизмы» сами по себе не выходят за пределы нарочитой тривиальности и, взятые в отдельности, не могут обладать значительной художественной активностью. Значимо их сочетание . Невозможность соединения этих семантических пластов в каком-либо предшествующем тексту структурном ожидании делает такое сочетание особенно насыщенным в смысловом отношении. Центром этого соединения несоединимого является собственное имя Цу-Кин-Цын, в котором скрещение пластов приобретает каламбурный характер.
Однако какую же идейно-художественную функцию выполняет это смешение стилистико-семантических пластов?
Для того чтобы текст воспринимался нами как «правильный» (например, был «правильным текстом на русском языке»), он должен удовлетворять некоторым нормам языкового употребления. Однако правильная в языковом отношении фраза типа «солнце восходит с запада» осознается как «неправильная» по содержанию, поскольку противоречит каждодневному опыту. Одной из форм осмысленности, позволяющей воспринимать текст как «правильный», является его логичность, соединение понятий в соответствии с нормами логики, житейского опыта, здравого смысла. Однако возможно такое построение текста, при котором поэт соединяет не наиболее, а наименее вероятные последовательности слов или групп слов. Вот примеры из того же А. К. Толстого:
а. Текст строится по законам бессмыслицы. Несмотря на соблюдение норм грамматико-синтаксического построения, семантически текст выглядит как неотмеченный: каждое слово представляет самостоятельный сегмент, на основании которого почти невозможно предсказать следующий. Наибольшей предсказуемостью здесь обладают рифмы. Не случайно текст приближается в шуточной имитации буриме - любительских стихотворений на заданные рифмы, в которых смысловые связи уступают место рифмованным созвучиям:
Угораздило кофейник
С вилкой в роще погулять.
Набрели на муравейник;
Вилка ну его пырять!
б. Текст делится на сегменты, равные синтагмам. Каждая из них внутри себя отмечена в логико-семантическом отношении, однако, соединение этих сегментов между собой демонстративно игнорирует правила логики:
Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Делярю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».
Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал.
А Делярю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Нарушение какой-либо связи представляет один из испытанных приемов ее моделирования. Напомним, что огромный шаг в теоретическом изучении языка сыграл анализ явлений афазии, а также давно отмеченный факт большой роли «перевертышей» и поэзии нонсенса в формировании логико-познавательных навыков у детей 3 .
Именно возможность нарушения тех или иных связей в привычной картине мира, создаваемой здравым смыслом и каждодневным опытом, делает эти связи носителями информации. Алогизмы в детской поэзии, фантастика в сказочных сюжетах, вопреки опасениям, высказывавшимся еще в 1920-е гг. рапповской критикой и вульгаризаторской педагогикой, совсем не дезориентируют ребенка (и вообще читателя), который не приравнивает текст к жизни. «Как бывает», он знает без сказки и не в ней ищет прямых описаний реальности. Высокая информативность, способность многое сообщить заключается в сказочном или алогическом текстах именно потому, что они неожиданны: каждый элемент в последовательной цепочке, составляющей текст, не до конца предсказывает последующий. Однако сама эта неожиданность покоится на основе уже сложившейся картины мира с «правильными» семантическими связями. Когда герой пьесы Островского «Бедность не порок» затягивает шуточную песню «Летал медведь по поднебесью…», слушатели не воспринимают текст как информацию о местопребывании зверя (опасения тех, кто боится, что фантастика дезориентирует читателя, даже детского, совершенно напрасны). Текст воспринимается как смешной, а основа смеха - именно в расхождении привычной «правильной» картины мира и его описания в песне. Таким образом, алогический или фантастический текст не расшатывает, не уничтожает некоторую исходную картину связей, а наслаивается на нее и своеобразно укрепляет, поскольку семантический эффект образуется именно различием, то есть отношением этих двух моделей мира. Но возможность нарушения делает и необращенную, «правильную» связь не автоматически данной, а одной из двух возможных и, следовательно, носителем информации. Когда в народной песне появляется текст: «Зашиб комарище плечище», то соединение лексемы, обозначающей мелкое насекомое, с суффиксом, несущим семантику огромности, обнажает признак малого размера в обычном употреблении. Вне этой антитезы признак малых размеров комара дан автоматически и не ощущается.
В интересующем нас стихотворении нарушенным звеном является логичность связей. То, что привычные соотношения предметов и понятий - одновременно и логичные соотношения, обнажается для нас только тогда, когда поэт вводит нас в мир, в котором обязательные и автоматически действующие в сфере логики связи оказываются отмененными. В мире, создаваемом А. К. Толстым, между причиной и следствием пролегает абсурд. Действия персонажей лишены смысла, бессмысленны их обычаи:
Китайцы все присели,
Задами потрясли…
Лишены реального значения их клятвы и обязательства, на которые «владыко края», видимо, собирается опираться, и т. д.
Алогизм этого мира подчеркивается тем, что нелепое с точки зрения логики утверждение подается и воспринимается как доказательство: оно облечено в квазилогическую форму. Причина того, что «доселе порядка нет в земли», формулируется так:
… мы ведь очень млады,
Нам тысяч пять лишь лет…
Соединение понятий молодости и пяти тысяч лет читателем воспринимается как нелепое. Но для Цу-Кин-Цына это не только истина, но и логическое доказательство:
Я убеждаюсь силой
Столь явственных причин.
Таким образом, читателю предлагают предположить, что существует особая «цу-кин-цыновская» логика, нелепость которой видна именно на фоне обычных представлений о связи причин и следствий. Характер этой «логики» раскрывается в последней строфе:
Подумаешь: пять тысяч,
Пять тысяч только лет!»
И приказал он высечь
Немедля весь совет.
Стихи «Я убеждаюсь силой…» и «И приказал он высечь…» даны как параллельные. Только в них дан ритмический рисунок , резко ощущаемый на фоне ритмических фигур других стихов. Сочетание смыслов и интонаций этих двух стихов создает ту структуру абсурдных соединений, на которых строится текст.
В общей картине абсурдных соединений и смещений особое место занимают несоответствия между грамматическим выражением и содержанием. В стихе «И приказал он высечь… » начальное «и», соединяющее два отрывка с доминирующими значениями «выслушал - повелел», должно иметь не только присоединительный, но и причинно-следственный характер. Оно здесь имитирует ту сочинительную связь в летописных текстах, которая при переводе на современный язык передается подчинительными конструкциями причины, следствия или цели. Можно с уверенностью сказать, что в созданной схеме: «Правитель обращается к совету высших чиновников за помощью - совет дает рекомендации - правитель соглашается - правитель приказывает…» - продолжение «высечь совет» будет наименее предсказуемо на основании предшествующей текстовой последовательности. Оно сразу же заставляет нас предположить, что здесь речь идет о каком-то совсем другом мире - мире, в котором наши представления о том, что правительственные распоряжения должны отличаться мудростью и значимостью, а государственный совет - сознанием собственного достоинства, - так же не действуют, как не действуют в нем правила логики и нормы здравого смысла.
В этом мире есть еще одна особенность - время в нем стоит (следовательно, нет исторического опыта). Это выражается и в том, что большие для обычного сознания числительные («пять тысяч лет») употребляются как малые («подумаешь»!). Но интересно и другое: в стихотворении употреблены три грамматических времени: настоящее («сидит», «клянемся»), прошедшее («присели», «ответил» и др.) и будущее («совершим»). Однако все они в плане содержания обозначают одновременное состояние. Фактически действие происходит вне времени.
Следует отметить, что если на лексико-семантическом уровне текст делился на два несоединимых пласта, то в отношении к логике и здравому смыслу они выступают едино. Контраст оказывается мнимым, он снят на более высоком уровне.
Так лексико-семантический и стилистический типы построения текста создают сатиру - художественную модель бюрократической бессмыслицы и того «китаизма», черты которого А. К. Толстой видел в русском самодержавии.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Отсутствие сатирического момента в басне («Сокол и голубка» В. А. Жуковского) воспринимается как некоторая неполнота, нарушение ожидания, которое само может быть источником значений. Сообщение же о наличии в басне сатирического элемента вряд ли кого-либо поразит - оно содержится в самом определении жанра. Между тем анализируемое нами произведение А. К. Толстого, взятое с чисто жанровой точки зрения (неозаглавленное стихотворение песенного типа, катрены трехстопного ямба), абсолютно в этом отношении нейтрально: оно с равной степенью вероятности может быть или не быть сатирой.
2 О семантике «кукольности» в сатире второй половины XIX в. см.: Гиппиус В. В. Люди и куклы в сатире Салтыкова // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
3 См.: Чуковский К. И. От двух до пяти // Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 1. О структуре текста в поэзии нонсенса см.: Цивьян Т. В., Сегал Д. М. К структуре английской поэзии нонсенса (на материале лимериков Э. Лира) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965. Вып. 181. (Труды по знаковым системам. Т. 2).